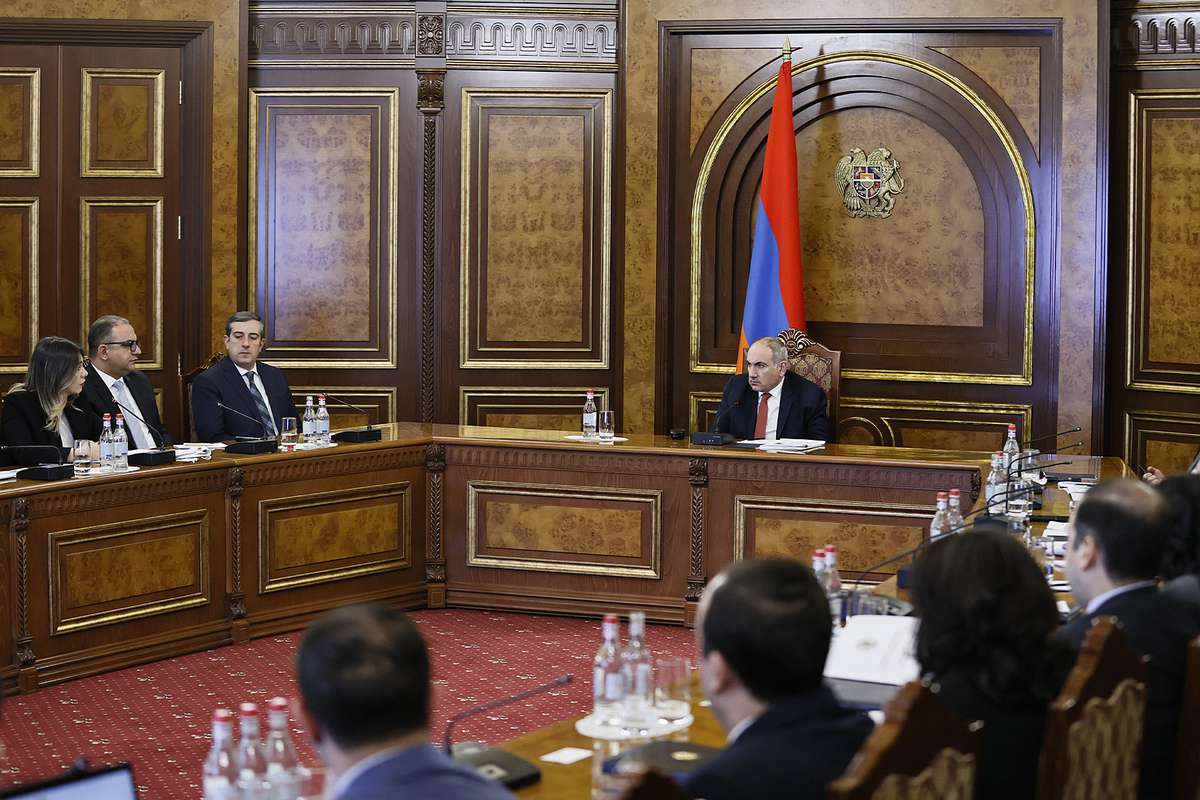Вера Полозкова и Оксана Васякина — о том, каково быть женщиной в современной литературе

В Культурном центре Андрея Вознесенского прошла открытая беседа Веры Полозковой и Оксаны Васякиной — поэтесс разных поколений и совершенно не похожих друг на друга. Вместе с тем во время дискуссии у них довольно быстро нашлись точки соприкосновения. «Горький» публикует расшифровку беседы.

Оксана Васякина: Когда мне был 21 год и я приехала в Москву поступать в Литературный институт, ты уже была звездой.
Вера Полозкова: Почему вам захотелось поступить в Литературный институт? Вы всегда знали, что хотите быть литератором?
ОВ: У меня сложная судьба. Я родилась в городе Усть-Илимске Иркутской области. Я из очень бедной семьи, и я все время пыталась найти способ куда-то попасть. И однажды я попала в город Пермь на поэтический фестиваль, и там я встретила мужиков из журнала «Медведь», которые пили водку и говорили: «Что ты пишешь стишочки в своем Новосибирске?». Затем я попала в Пермь благодаря Андрею Родионову, и там мне сказали: «Есть Литературный институт, там можно жить бесплатно, в Москве». И я поехала в Москву, поступила в Литературный институт.
ВП: У меня была мысль пойти в Литературный институт, но дело в том, что судьба моя была решена лет в тринадцать, когда я пришла в Школу юного журналиста и увидела факультет журналистики. Факультет журналистики на Моховой производит большое впечатление. Я была из очень бедной семьи: моя мама была матерью-одиночкой, родившей меня в сорок лет. В общем, без вариантов абсолютно. Я думаю: «Так, мы делаем что угодно, врем, притворяемся другим человеком, преувеличиваем собственные способности, но мы сюда поступаем любой ценой». И через два года я поступила на факультет. А теперь представьте, что происходит с пятнадцатилетним человеком, домашним ребенком с косой до попы, в мамином свитере, который оказывается на журфаке МГУ, где всем восемнадцать-девятнадцать, все курят, пьют и делают все что угодно. А он просто тихий, влюбленный в текст зайчик, который пришел научиться письму.
ОВ: Каково женщине в литературе? Я знаю, что есть искушение сказать: я не женщина, я поэт, и мне на ваши земные штуки все равно. Но я знаю, что у женщины абсолютно своя история в истории литературы, и судьба, и ад, который мы проходили, у нас примерно одинаковый.
ВП: Я думаю, что в русской литературе счастливым быть невозможно в принципе… Здесь такая общецеховая установка, что любого, громко заявившего о себе каким бы то ни было образом, будут топтать и уничтожать от шести до десяти первых лет его карьеры. Об этом не предупреждают обычно.
В 2007 году меня позвал мой приятель выступить в Булгаковском доме. Я была уверена, что придет три с половиной калеки и мой дружочек какой-нибудь, послушают нас и разойдутся. Но люди слушали три часа. Я тогда не знала, что должен быть какой-то здоровый хронометраж у выступления. Я решила прочитать все, что я написала к этому моменту. Мне был двадцать один. И никто не разошелся, была куча народу. И с этого момента все и началось. Вот тут меня возненавидели по-настоящему. Прям по-настоящему, потому что в Булгаковском доме 50 человек считались аншлагом, и, если книжки издавались в Проекте О.Г.И. пятьсот каким-нибудь тиражом и распродавались хотя бы года за два, это считалось большим успехом. Тираж моих книжек приближается к 150 тысячам экземпляров, поэтому я никогда не буду своей ни в каком литературном кругу. Я всегда буду врагом номер один, все будут отплевываться и называть попсой.
ОВ: Я тоже расскажу про свою тяжелую судьбу. У меня не было журналистской тусовки, у меня как раз была тусовка литературная. Я понимала, что вот эти люди, которые делают про березы в рифму, мне не интересны. Мне интересно про новый язык, меня завораживали левые идеи, и я пошла в ту сторону и попала в совершенно прекрасную литературную тусовку, про которую ты как раз сказала, что это алкоголики с гречкой в бороде.
ВП: С годами я начала обожать этих людей. Я поняла, что они подлинные рыцари духа. Люди, которые пишут книжки в 2019 году, не бреются, не моются, бухают, вот они и делают настоящую литературу. Потому что это очень уже тяжело — так делать в 2019 году. В мире глобальных коммуникаций, в мире цифрового всего, в мире Uber, клининговых компаний, в мире всего того, что происходит, очень сложно жить как в 70-е. По-прежнему чесать плешь, встречаться на кухнях, обсуждать, какие все бездари, кроме тебя.
ОВ: Когда на кухне я перепутала то ли Линча с Кубриком, то ли кого еще, мне сказал очень именитый литературный критик: «Оксана, это ты сейчас молодая и красивая, и ты нам нужна, а когда ты будешь старая и такая же глупая, страшная и толстая, мы найдем других красивых девочек». Мне не сказали: «Фу, ты бесталанная странная баба, которая пишет какие-то странные стихи, иди отсюда». Меня оценили как тело, которое должно быть атрибутом этой тусовки. В один прекрасный момент я сказала: «Так, ребята, стоп». И тогда, слава богине, в наш литературный мир пришел артикулированный феминизм, и я просто всем дала просраться. Чудовищно, когда тебя оценивают как материал, который присутствует где-то в качестве атрибута удачной тусовки.
ВП: Я прекрасно могу себе это представить. Есть такой сорт комплиментов, мне кажется, которые хуже, чем оскорбления. Мне даже люди, которые знали меня по многу лет, говорили, что мы бы даже не стали все это слушать и смотреть, если бы ты не выходила в своих платьях, в этих кудрях и все это не читала.
Меня убивает несгибаемость этой системы, что любое объединение, сообщество устроены так, что своих оно покрывает и выгораживает в любых самых некрасивых и нравственных, и внутренних ситуациях. И в случае плохих текстов, и в случае провалов, и в случае всего что угодно. Нам с Оксаной повезло, потому что в нашей жизни случалась жесть похлеще, чем критика дядек. А ведь есть люди, которых это сломало навсегда, которые на втором или на третьем курсе Литинститута просто вышли в окно, потому что это невозможно терпеть.
Помимо феминистского дискурса, это еще и общечеловеческая история про какую-то загнивающую душу, когда тебе 40 и тебе хочется, чтобы распад, который происходит с твоей душой, касался всего мира, и все вместе с тобой потихоньку распадалось, никто новый никогда тебя не замещал, не приходил и не тревожил твой взгляд ничем, что отличается от того, как ты себе это представляешь.
ОВ: Мне было интересно смотреть на Дуню Смирнову, когда ты ходила на «Школу злословия». Было интересно, какие слова они используют для того, чтобы вообще тебя описывать.
ВП: Как ящерицу примерно они меня описывают. Вот так, если на вытянутой руке держат кого-то: смотрите, какая у нее блестящая шкурка. Так и они — меня. Было круто.
ОВ: И это, конечно, удивительно, потому что все знают, чем тебе нужно заниматься. Дуня Смирнова говорит: «Может, вам заняться театром?»
ВП: Она мне сказала: «А что вы все время „мы” говорите? Что вы „мыкаете“»?”Я говорю: «В смысле? Мы — я и мои друзья. Я и какая-то моя компания». «Причем здесь мы-то? Писательство — это одинокое ремесло, только „я” может быть. Идите в кино работать вообще. Вам пойдет какой-нибудь помреж». Мне 24 года, у меня вышла книжка, выходит вторая, то есть комизм этой ситуации просто необъятный. Но виден только сейчас, к сожалению, там, изнутри, ничего не докажешь.
ОВ: Я представила на твоем месте какого-нибудь молодого гения, мальчика.
ВП: Они бы его облизывали, конечно. Они меня три раза звали в программу, я не идиотка, я отказывалась первые два. Причем по каким-то даже здравым причинам, меня не было в стране или что-то такое. Дальше они сделали классно. Мне позвонили: «Здравствуйте, Вера, вы в Москве? У нас завтра в час съемка, приходите». Тут уже сложнее. Я пришла, и мне казалось, что, если они меня так настойчиво зовут, есть два варианта. Либо они меня ненавидят, и мы будем подстебывать друг друга, пикироваться, и это будет выглядеть живо и интересно, либо они меня обожают. Если вы видели выпуск с Дмитрием Воденниковым — там просто два человека, которые медленно облизывают вниз, вверх, вниз, вверх одного и того же персонажа. Персонаж сидит и позволяет себя облизывать, это нормально. Я вообще считаю, что так должна устроена быть коммуникация между поэтом и обществом. Они ни то ни другое. Хуже всего, что они не читали ничего из того, что было написано к тому моменту вообще. Комизм заключался в том, что за полтора часа мы не обсуждали ни одного текста. Ну типа грамотно написано, сказала Смирнова. Я говорю: «В смысле, без ошибок грамматических?» А дальше почему-то все пришло к тому, что мне не надо заниматься тем, чем я занимаюсь, и единственная причина, по которой я этим занимаюсь, в том, что молодые телки не знают, как себя применить, и им кажется, что они интеллектуально на что-то притязают, а они не имеют права интеллектуально ни на что притязать. Они должны работать помощником режиссера. Возразить им, что они тоже были когда-то телками и что, может быть, им не стоило им заниматься тем, чем они занимались, — это бессмысленно абсолютно, за кадром осталось. Но просто еще Авдотья Андреевна себя фантастически ведет в кадре и вне кадра, и это дополнительно создает такой офигенный объем всему, что я обожаю эту съемку вспоминать. Жалко, что тут Центр Вознесенского, нельзя матом ругаться, я попробую это передать. Значит, они сидят в студии, стол занимает тридцать маленьких процентов всего большого павильона, который за ним. Там темнота и операторы стоят. Операторы, которые у нее работают в кино, то есть ее знакомые. И она делает так: «Ну, вы не любите Блока, да, не считаете его серьезным автором». (Ругается в сторону операторов). На неподготовленного человека производит впечатление оглушительное, потому что мат не просто трехэтажный, а он с такими узорами еще. И человек, ледяной от ужаса, переворачивает камеру, перенаводит резкость. Было очень круто, жалко, что не существует больше этой программы.